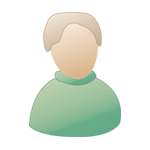Помощник
Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )
Цитаты форумчан
 14.10.2006, 1:53 14.10.2006, 1:53
Сообщение
#1
|
|
 The unfogiven Группа: Участники Сообщений: 1160 Регистрация: 8.3.2006 Пользователь №: 1716 Награды: 1 Предупреждения: (0%)  |
Иванович,Васильев,Чижиков,Коба,Бесошвили и Джугашвили, он же Сталин -советский государственный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) с 1922, глава Советского правительства (председатель Совета Народных Комиссаров и Совета Министров СССР) c 1941. C конца 1920-х годов пользовался неограниченной властью.
За время правления Сталина СССР превратился из аграрной страны в государство мирового масштаба (мировую сверхдержаву) с огромным промышленным и военным потенциалом, но относительно низким уровнем жизни населения. Для достижения таких целей Сталин использовал жёсткие методы управления, включая государственный террор. Использованы данные http://ru.wikipedia.org/ и "День "М"" -------------------- De profundis clamo ad te, Domine
--------------------
|
|
|
|
 |
Ответов
 24.12.2008, 13:15 24.12.2008, 13:15
Сообщение
#2
|
|
 Папик Группа: Участники Сообщений: 873 Регистрация: 22.5.2006 Пользователь №: 2496 Предупреждения: (10%)  |
Сорри за даблпост, вот, еще того же автора.
Антиревизионизм - 4. Методология ревизионизма, или особенности подхода дилетанта Другая мотивация пересмотра истории вначале выглядит как объективный интерес. Подобно тому, как жанр исторического романа расцветал в русской/советской литературе в определенные периоды, когда попытки разобраться в своих корнях или найти истоки настоящего в прошлом оказывались востребованными, крутые исторические переломы нередко вызывают у людей всплеск интереса к истории вообще. В том числе и у тех, кто ранее не занимался историей профессионально. Кроме того, ревизионизм строится на ложном чувстве загадки. Историческое событие скрывается за некой завесой тайны, и любому хочется почувствовать себя своего рода следователем, который готов этот покров сорвать, распутав «историческое преступление» подобно детективу из романа в мягкой обложке. Однако такого «следователя» подстерегает не видимый его глазу целый ряд препятствий и ловушек, которые надо разобрать подробно, - в первую очередь потому, что допущенные из-за них ошибки далеко не всегда являются следствием злой воли. Неумение правильно «читать» источники По мнению автора, самая главная опасность, которая подстерегает дилетанта от истории (в этом тексте данное слово не имеет негативную коннотацию, отражая не столько непрофессионализм человека, сколько отсутствие у него профессионального образования в данной области), - недостаточная ориентированность во «вспомогательных дисциплинах». В первую очередь, речь идет о методологии исторического исследования и источниковедении как умения правильно понимать и правильно изучать лежащие в основе той или иной теории исторические факты. Не менее важна и историография, которая позволяет не только ориентироваться в научных школах и различных точках зрения по данному предмету, но и устанавливать уровень компетентности того или иного исследователя. Анализ личности/позиции автора текста - тоже важный элемент этой дисциплины. В советское время этому учили и учили очень хорошо, пусть и под лозунгом «Как советские историки, вы должны знать не только саму историю, но и то, как эту историю писали, - хотя бы потому, что, возможно, вам самим придется ее писать». К тому же, противостояние времен холодной войны заставляло участников «дискуссии» быть весьма аккуратными: обе стороны очень хорошо знали материал, и поэтому откровенная ложь или неумелое передергивание разоблачались достаточно быстро, после чего победа оставалась за тем, кто поймал оппонента на использовании недостойных приемов. Но с падением СССР идеологическая основа в лице марксизма развалилась вместе с незаслуженно забытой методологией, а качество преподавания вспомогательных дисциплин существенно снизилось. Впрочем, надо отметить и то, что значительное количество «ревизионистов» - как российских, так и зарубежных (к примеру, тот же Мензис) – не являются профессиональными историками. Здесь, конечно, надо бы тотчас привести «краткий курс источниковедения», но он последует отдельным разделом, ибо велик для параграфа. Здесь приведу только один пример - некачественное сравнение точек зрения. В рамках принципа «Подвергай всё сомнению», можно начать оспаривать общепринятую точку зрения на предмет, - не зная того факта, что все критические аргументы этого подхода уже давно разобраны и встречены контраргументами. Но дилетант, который из-за незнания историографии не способен отделить различные трактовки одного и того же события в научных школах от оспаривания канона людьми малокомпетентными как бы ставит на одну доску специалистов очень разного уровня (например, серьезных специалистов по Великой Отечественной и господ Резуна, Соколова и Ко), после чего каноническая трактовка объявляется спорной только на основании того, что существуют иные точки зрения, безотносительно того, насколько они обоснованы. Нередко непрофессионал не обращает внимания даже на такую простую вещь, как перекрестная проверка источников. О каком-то значимом событии, в которое было вовлечено несколько сторон, обычно говорит каждая из них. Например, в случае немецкого авианалета на советскую танковую колонну соответствующая запись в журнале военных действий должна быть сделана обеими сторонами. И информацию о том, что некий немецкий летчик один сбил 15 танков, вполне можно перепроверить по советским источникам. Понятно, что в подобных случаях искажать информацию могут обе стороны, приукрашивая себя и принижая противника. Однако когда историк знает две точки зрения, он может их сопоставить и только после этого делать собственные выводы. Что же до ошибок в методологии, то вместо логики исторического процесса дилетант использует категории сравнительной логики, не зная некоторых важных умолчаний, но, полагаясь на то, что ему кажется здравым смыслом. Хорошими примерами здесь являются некоторые построения «криптоисториков» относительно Римской империи, в которые внедрилось современное представление о том, что сверхдержава такого уровня прямо-таки обязана иметь тайные службы безопасности или хотя бы хорошо организованную разведку. То, что в Римской Империи не могло быть спецслужб современного образца, потому что там не было газет и телеграфа, современной системы дипломатии и ряда иных социальных технологий, дилетанту не очевидно. «Ошибка детективщика» Непрофессионал часто пытается подходить к вопросам истории как следователь, но его искреннее желание «найти тайну» создает риск найти скрытый смысл там, где в действительности его могло и не быть, из принципа отметая естественные или наиболее простые причины. Рискну привести немного странное сравнение. Большинство совершаемых сегодня преступлений очень просты с точки зрения механики их раскрываемости и не могут служить основой для хорошего классического детектива, построенного на том, что изобретательный преступник планирует сложным образом скрыть свою вину, а хитроумный следователь распутывает его планы. Как сказал один из писателей-детективщиков, классические методы дознания, которыми обычно пользуется следователь, в детективном сюжете не работают, ибо обычно противостоят его штампам, в которых, например, тот, на кого первым падает подозрение, скорее всего, невиновен. Однако когда на месте следователя оказывается человек, имеющий представление о расследованиях исключительно из детективной литературы, то, руководствуясь штампами детектива, он начинает совершать ошибки, полагая исключение правилом. И, скорее всего, придет к неверным выводам, желая обнаружить более сложный и запутанный сюжет, чем это было на самом деле. Кстати, именно отсюда некоторый уклон в конспирологию и проблемы с принципом Оккама ("не умножай сущности без надобности"), которые часто встречаются в трудах ревизионистов. Сюда же – представление о «суде истории» как о состязательном процессе американского типа, в котором в роли суда присяжных выступает общественное мнение. Между тем, такой тип суда, как кажется автору, так же часто превращается из процесса установления истины в состязание между прокурором и адвокатом, построенное на умении произносить «правильные» речи и жонглировать фактами. Опора на «послезнание» Дилетантам мешает также и то, в нашей компании условно зовется «послезнанием». Анализируя события прошлого, они уже заранее знают, «что будет дальше», и они считают, что развитие событий по данному сценарию должно было быть очевидным и для его современников. Иными словами, мы знаем и учитываем то, чего не знали наши предки, и не учитываем того, что знали и принимали во внимание они. Однако исторически случившееся развитие событий далеко не всегда было очевидным для современников. На базе исходных данных, которые были известны людям прошлого, принимавшим решения тогда, они вполне могли сделать иной вывод, который казался им наиболее логичным. Вот хороший пример. Мы знаем, насколько серьезным было вмешательство США в Корейскую войну 1950-1953 гг. Дилетанты делают из этого вывод, что Сталин заранее знал о том, что Соединенные Штаты вмешаются в нее, и строил свою стратегию, исходя из этого. Однако документы говорят о другом. Корейская война планировалась как блицкриг и именно с расчетом на то, что американцы не вмешаются или не успеют вмешаться в нее. В пользу точки зрения о неактивности США свидетельствовал целый ряд весомых доводов. Во-первых, речь Ачесона в январе 1950 г. исключила Южную Корею из американского «периметра обороны». Во-вторых, «потерю» Китая в 1949 г. американцы «приняли и в конфликт между Гоминьданом и коммунистами не вмешались, - а это был гораздо более важный стратегический союзник, чем Южная Корея. В-третьих, в Кремле могли знать о трениях между Госдепом США и администрацией Ли Сын Мана, которая была слишком одиозной. Наконец, обстановка и без того напряжена достаточно… рискнет ли Америка ввязываться в большой конфликт из-за какой-то Кореи??. Опираясь на эти данные, логично сделать вывод о том, что Америка не станет предпринимать серьезные меры по защите сеульского режима, и блицкриг можно начинать безнаказанно. Но реалии оказались иными. Послезнание же позволяет адекватно и постфактум отделить «сигнал» от «шума». Здесь хороший пример – известный рассказ о том, что Р. Зорге предупреждал Сталина о том, что война начнется 22 июня, но тот не принял эту важную информацию во внимание. Действительно, такое предупреждение было, но до того Р. Зорге, да и другие наши разведчики, неоднократно предупреждали о скором, или даже скорейшем начале войны, называя иные даты. В результате, когда третье или четвертое предупреждение не сбылось, бдительность начала притупляться, поскольку все сообщения из данного источника стали восприниматься как неточные и, следовательно, не требующие немедленного реагирования. Но без послезнания и при отсутствии полной информации и разработанного аналитического аппарата далеко не всегда понятно, какое из множества сообщений о том, что будет война, правильное. Особенно с учетом того, что некоторые предсказания такого рода уже не сбылись. Упрощение моделей Отсутствие методологии часто ведет и к тому, что дилетанты выпускают из виду большой набор комплексных факторов и тенденций, ведущих к изменению ситуации. Стремление упрощать ситуацию, сочетающееся со слабым представлением об организационной структуре власти, очень часто вынуждает их подменять сложные модели более простыми и им понятными. Чаще всего это либо (наряду с описанным выше желанием «раскрыть тайну») усиливает конспирологический тренд, либо сводится к интерпретированию истории как личных взаимоотношений и/или личных качеств глав государств: царь был плохой, и потому случилась революция; Сталин поверил Гитлеру, а тот его обманул; Горбачёв и Яковлев были американскими шпионами… Конспирология, в рамках которой множественные процессы подменяются деятельностью группы заговорщиков- тема отдельной статьи, над которой я сейчас тоже работаю. Потому здесь отметим только то, что в рамках теории заговора противнику приписывается способность осуществлять планы такой степени сложности и такой глубины проработанности, которые а) не могут быть сохранены в тайне из-за большого числа их участников; б) требуют такого уровня внутреннего единства и исполнительности административной системы, которым государство обычно не обладает. Кроме этого, надо помнить, что «жертвенные» планы категории «заманить противника под Москву, а потом дождаться холодов», всегда обладают весьма высоким уровнем риска. К такому плану нередко прибегают, когда война уже началась (и не на самых выгодных условиях), но представляется, что начинать войну в таком стиле опасно. Всегда велик риск того, что «загон для льва» окажется слишком хлипким. «Переход на личности» В области работы с «человеческим фактором» ревизионисты-дилетанты допускают две ошибки. Первая заключается в том, что на историческую личность навешивается определенный ярлык, и все ее дальнейшие поступки и действия анализируются, исходя из приписанных ему этим ярлыком мотиваций. Наиболее частый вариант заключается в том, что тот или иной представитель власти или группа во власти демонизируются и являются маниакальными фанатиками, причем каждая школа имеет своих «записных негодяев». Демократы подобным образом рисуют Сталина, «национал-патриоты» - мировой еврейский заговор, ряд левых – правительство США. Такой подход не только упрощает картинку, но и позволяет объяснить все нестыковки, нерациональности и странности концепции тем, что «это же был безумный и кровавый тиран !». На деле сие напоминает аргументацию излишне ретивых «охотников на ведьм», у которых любая деталь поведения обвиняемой тоже расценивалась как безусловное доказательство ее связи с сатаной: «Живет богато – дьявол бросает ей червонцы через трубу»; «живет бедно – много тратит на черную магию», «уродлива – дьявол ее пометил», «красива – дьявол дал ей дар соблазнять», «говорит, что не ведьма – коварно притворяется», «умерла под пытками – дьявол предпочел погубить ее тело, чтобы оставить бессмертную душу себе». Вторая ошибка заключается в том, что у дилетантов исторические личности напрочь лишены права на ошибку (прошу прощения за тавтологию). Мысль о том, что кто-то мог просто недодумать, полениться, сделать неверный вывод, приходит им в голову в последнюю очередь. Все решения, по их мнению, принимаются «безошибочно», и если они выглядят ошибкой, значит надо искать тайный умысел. Психологически такая позиция вполне понятна. Конспирологи, которые обычно сами не принадлежат к властным и управленческим структурам, не только недостаточно понимают процесс принятия решений, гипертрофируя всеведение власти, но и представляют себе власть состоящей из каких-то особых людей, чьи мотивации могут быть иррациональными и отличающимися от мотиваций обычного человека. Между тем, чем более развитое общество и чем сложнее его бюрократическая структура, тем больше вероятность того, что фанатики или зашоренные люди отсеиваются и наверх попадают циничные политики, которые привыкли мыслить рационально. Опыт аппаратных игр, необходимый для того чтобы подняться наверх, воспитывает именно эти качества. Что же касается «неучтенных последствий», то непредусмотренные итоги решений могут оказаться весьма значительными. Никто не ожидал, что продажа Англией опиума Китаю окажется структурной миной, которая нанесет колоссальный вред административной системе этой страны, молодое поколение чиновников которой почти поголовно станет опиумными наркоманами. Никто не ожидал, что из-за недоучета климатических особенностей региона «освоение целинных и залежных земель» приведет к опустыниванию, а попытка советских властей выжать из села «излишки» продовольствия повлечет за собой голод, который нынешние критики СССР полагают специально организованным именно для того, чтобы уморить определенный национальный или социальный сегмент общества. Неучет специфики Не менее характерно для дилетанта недопонимание или игнорирование тех элементов контекста, которые связаны с региональной эндемикой. Это очень хорошо проявляется в ситуации, когда не знакомые с корейским контекстом историки пытаются анализировать ситуацию в стране, исходя из европейских или советских штампов. Например, они часто не учитывают тот факт, что в рамках традиционного конфуцианского менталитета представление о свободе и допустимом уровне ее ограничения либо о соотношении интересов личности и коллектива значительно отличаются не только от европейских, но и от советских. Похожая ошибка заключается в том, что феномен позднесоветского или постсоветского общества, когда государственная пропаганда воспринимается в основном как лакировка действительности и потому ей особенно не верят, распространяют на иные модели общества. И потому, например, ищут интеллигентных диссидентов в КНДР. Другая группа ошибок, тоже связанных с недоучетом местной специфики: при взгляде снаружи любая структура (будь то страна или организация) кажется гораздо более единой, централизованной и не имеющей внутренние противоречия и альтернативные точки зрения. В свою очередь, те, кому «изнутри» очень хорошо видны наличие этих огрехов, часто не могут понять, почему при анализе ситуации внешние аналитики все это не принимают во внимание. Например, христианская церковь организована так, что в католицизме и православии религиозная структура имеет одного главу, распоряжения которого обязательны к исполнению. При том, что даже у протестантов эта структура другая, штамп наличия «главного церковника» распространяется и на иные мировые религии, в том числе на ислам и иудаизм, где нет ни папы, ни патриарха. Более того, несмотря на то, что еврейские общины России достаточно разобщены и имеют разные «крыши», люди, называющие себя главными раввинами или председателями федерации еврейских общин, наделяются «патриотами», условно говоря, такими же статусом, влиянием и весом, как российский патриарх православной церкви. «Послесуждение» Последняя ошибка дилетантов заключается в том, что, вынося этические суждения об исторических лицах, они судят людей прошлого по законам современности. Но при этом, во-первых, забывают то, что и законы, и нормы права и поведения могли быть совсем другими, а во-вторых – снова игнорируют контекст эпохи. К примеру, бичуя зверства Ивана Грозного, забывают упомянуть о том, что многие правители из числа его современников были не менее негуманными (хотя бы Генрих VIII), и в то время действия царя не воспринимались как нарушение законов божеских и человеческих. Иной пример. Практика конца ХХ в. с идеей гуманитарной интервенции и отказом от войны как приемлемого способа решать дела полагает, что любой внутренний конфликт должен быть остановлен миротворцами безотносительно того, насколько обстановка будет отличаться от доконфликтной и насколько внешнее вмешательство может обернуться усугублением вреда. Однако даже в начале – середине ХХ в. вмешательство третьих сил в гражданскую войну не поощрялось. Конфликт считался внутренним делом страны. -------------------- ;-)))
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
 Prey Сталин 14.10.2006, 1:53
Prey Сталин 14.10.2006, 1:53
 Starhunter Брат Маркус
Цитатаа вы не путаете понятие пятой ко... 23.12.2008, 0:10
Starhunter Брат Маркус
Цитатаа вы не путаете понятие пятой ко... 23.12.2008, 0:10
 Gelu Хантер
В СССР все-таки нашлись гниды которых можн... 23.12.2008, 2:21
Gelu Хантер
В СССР все-таки нашлись гниды которых можн... 23.12.2008, 2:21
 Starhunter Gelu, вот только почти все они оказались на том св... 23.12.2008, 2:52
Starhunter Gelu, вот только почти все они оказались на том св... 23.12.2008, 2:52
 Брат Маркус Gelu
ЦитатаВспоминают ему ГУЛАГ, при этом не жел... 23.12.2008, 3:21
Брат Маркус Gelu
ЦитатаВспоминают ему ГУЛАГ, при этом не жел... 23.12.2008, 3:21
 Gelu Хантер
Я вообще-то я УПА имел ввиду и схожих с н... 23.12.2008, 4:08
Gelu Хантер
Я вообще-то я УПА имел ввиду и схожих с н... 23.12.2008, 4:08
 Starhunter Брат Маркус
ЦитатаЗнаете, что, уважаемый, не буду ... 23.12.2008, 9:45
Starhunter Брат Маркус
ЦитатаЗнаете, что, уважаемый, не буду ... 23.12.2008, 9:45
 Брат Маркус Как звали дедулю и когда он там начальствовал? )
... 23.12.2008, 11:38
Брат Маркус Как звали дедулю и когда он там начальствовал? )
... 23.12.2008, 11:38
 Starhunter Вообще-то, самые массовые расстрелы были во времен... 23.12.2008, 22:15
Starhunter Вообще-то, самые массовые расстрелы были во времен... 23.12.2008, 22:15
 Завулон когда шел красный террор была гражданская война, и... 23.12.2008, 22:34
Завулон когда шел красный террор была гражданская война, и... 23.12.2008, 22:34
 Starhunter Завулон, именно при Сталине, те, кто "Именем ... 24.12.2008, 0:12
Starhunter Завулон, именно при Сталине, те, кто "Именем ... 24.12.2008, 0:12
 Gelu Маркус
ЦитатаЗря вы так, уважаемый, читал, изуча... 24.12.2008, 0:22
Gelu Маркус
ЦитатаЗря вы так, уважаемый, читал, изуча... 24.12.2008, 0:22

 Брат Маркус Любезнейший господин Gelu, ваша точка зрения вызыв... 24.12.2008, 4:40
Брат Маркус Любезнейший господин Gelu, ваша точка зрения вызыв... 24.12.2008, 4:40
 Starhunter Маркус, тысячи расстрелянных за раз?
Извини, но не... 24.12.2008, 0:26
Starhunter Маркус, тысячи расстрелянных за раз?
Извини, но не... 24.12.2008, 0:26
 Gelu В списках персонала ГУЛАГов не значиться расстрель... 24.12.2008, 0:31
Gelu В списках персонала ГУЛАГов не значиться расстрель... 24.12.2008, 0:31
 Завулон да ну? это потому что ты так сказал? источник пожа... 24.12.2008, 0:45
Завулон да ну? это потому что ты так сказал? источник пожа... 24.12.2008, 0:45
 Starhunter Завулон
Цитатада ну? это потому что ты так сказал?... 24.12.2008, 1:35
Starhunter Завулон
Цитатада ну? это потому что ты так сказал?... 24.12.2008, 1:35
 Завулон Да действительно. Итак вопрос к Gelu: основания д... 24.12.2008, 2:19
Завулон Да действительно. Итак вопрос к Gelu: основания д... 24.12.2008, 2:19
 Starhunter Завулон, если разделить на 10, получится фигня. 24.12.2008, 2:38
Starhunter Завулон, если разделить на 10, получится фигня. 24.12.2008, 2:38
 Gelu Завулон
Позволь поинтересоваться? У тебя с голово... 24.12.2008, 2:47
Gelu Завулон
Позволь поинтересоваться? У тебя с голово... 24.12.2008, 2:47
 Завулон Хорошо вот факты:
1- голодомор 1932-1933 даже у б... 24.12.2008, 3:37
Завулон Хорошо вот факты:
1- голодомор 1932-1933 даже у б... 24.12.2008, 3:37
 Gelu Завулон
Тебе объяснить значение слова «факт» или ... 24.12.2008, 5:36
Gelu Завулон
Тебе объяснить значение слова «факт» или ... 24.12.2008, 5:36
 Брат Маркус Кое-какие приемы, которыми пользуются фальсификато... 24.12.2008, 13:01
Брат Маркус Кое-какие приемы, которыми пользуются фальсификато... 24.12.2008, 13:01
 Алекс Маклауд Дорогой мессир Gelu, при всем уважении к Вашим бес... 24.12.2008, 13:48
Алекс Маклауд Дорогой мессир Gelu, при всем уважении к Вашим бес... 24.12.2008, 13:48
 Праздношатающийся ЦитатаЖаль, что я у тебя не преподаю, с такими ... 24.12.2008, 15:23
Праздношатающийся ЦитатаЖаль, что я у тебя не преподаю, с такими ... 24.12.2008, 15:23
 Завулон Продолжение дискуссии с Gelu:
Итак документы по го... 24.12.2008, 20:46
Завулон Продолжение дискуссии с Gelu:
Итак документы по го... 24.12.2008, 20:46
 Starhunter Брат Маркус, кое-что о "кроваовй ГБ"
Быв... 24.12.2008, 20:56
Starhunter Брат Маркус, кое-что о "кроваовй ГБ"
Быв... 24.12.2008, 20:56
 Брат Маркус Вот, 20 минут работы с гуглем дают просто потрясаю... 24.12.2008, 23:31
Брат Маркус Вот, 20 минут работы с гуглем дают просто потрясаю... 24.12.2008, 23:31
 Starhunter ЦитатаНу, что, брат Starhunter, внушаить? :)))
Во-... 25.12.2008, 2:06
Starhunter ЦитатаНу, что, брат Starhunter, внушаить? :)))
Во-... 25.12.2008, 2:06
 master_Atavis Усатый сцуко, маньяк, шизик, ровня Гитлеру... Прод... 25.12.2008, 2:15
master_Atavis Усатый сцуко, маньяк, шизик, ровня Гитлеру... Прод... 25.12.2008, 2:15
 Starhunter master_Atavis
ЦитатаУсатый сцуко, маньяк, шизик, р... 25.12.2008, 2:22
Starhunter master_Atavis
ЦитатаУсатый сцуко, маньяк, шизик, р... 25.12.2008, 2:22
 Брат Маркус Starhunter
ЦитатаВо-первых, не брат я церковникам.... 25.12.2008, 2:33
Брат Маркус Starhunter
ЦитатаВо-первых, не брат я церковникам.... 25.12.2008, 2:33
 Starhunter Брат Маркус
ЦитатаПростите за бестактность, забыл ... 25.12.2008, 3:01
Starhunter Брат Маркус
ЦитатаПростите за бестактность, забыл ... 25.12.2008, 3:01
 Starhunter И так, брат Маркус, сколько там сидело "за де... 27.12.2008, 13:52
Starhunter И так, брат Маркус, сколько там сидело "за де... 27.12.2008, 13:52
 Брат Маркус Starhunter
2600000 в одной только Томской области... 28.12.2008, 0:57
Брат Маркус Starhunter
2600000 в одной только Томской области... 28.12.2008, 0:57
 Starhunter Брат Маркус, за дело я имею ввиду, за реальные нар... 28.12.2008, 2:57
Starhunter Брат Маркус, за дело я имею ввиду, за реальные нар... 28.12.2008, 2:57
 Gelu Извиняюсь за пропажу – на крыше свитч отдал богу д... 28.12.2008, 22:32
Gelu Извиняюсь за пропажу – на крыше свитч отдал богу д... 28.12.2008, 22:32
 Брат Маркус Gelu
А чего это вы мне тыкаете? Мы с вами на бруде... 28.12.2008, 23:59
Брат Маркус Gelu
А чего это вы мне тыкаете? Мы с вами на бруде... 28.12.2008, 23:59
 Праздношатающийся ///на правах оффтопа///
Gelu
ЦитатаНо про экзамена... 29.12.2008, 0:43
Праздношатающийся ///на правах оффтопа///
Gelu
ЦитатаНо про экзамена... 29.12.2008, 0:43
 Gelu Маркус
Я на "вы" обращаюь только в двух... 29.12.2008, 7:47
Gelu Маркус
Я на "вы" обращаюь только в двух... 29.12.2008, 7:47
 Gelu Итак, пора заканчивать этот балаган, который мне у... 29.12.2008, 7:50
Gelu Итак, пора заканчивать этот балаган, который мне у... 29.12.2008, 7:50
 Брат Маркус Хотите кончить балаган? Так заканчивайте.
ЦитатаИс... 29.12.2008, 14:13
Брат Маркус Хотите кончить балаган? Так заканчивайте.
ЦитатаИс... 29.12.2008, 14:13
 Gelu Маркус
Ответьте мне пожалуйста на такой вопрос, ... 3.1.2009, 19:50
Gelu Маркус
Ответьте мне пожалуйста на такой вопрос, ... 3.1.2009, 19:50
 Gelu Цитата в тему
А фотка в СССР потому черно-белая,... 3.1.2009, 20:43
Gelu Цитата в тему
А фотка в СССР потому черно-белая,... 3.1.2009, 20:43
 Праздношатающийся Gelu
ЦитатаЗапомни - оскорбления тебя не красит и ... 3.1.2009, 20:54
Праздношатающийся Gelu
ЦитатаЗапомни - оскорбления тебя не красит и ... 3.1.2009, 20:54
 Gelu Праздный, не я первый начал ;) Тем более в условия... 3.1.2009, 21:05
Gelu Праздный, не я первый начал ;) Тем более в условия... 3.1.2009, 21:05
 Брат Маркус Gelu
ЦитатаКстати, уважаемый школьник, вас не пой... 4.1.2009, 10:12
Брат Маркус Gelu
ЦитатаКстати, уважаемый школьник, вас не пой... 4.1.2009, 10:12
 Gelu Маркус
Все ясно, успешный уход от ответов в стор... 4.1.2009, 22:11
Gelu Маркус
Все ясно, успешный уход от ответов в стор... 4.1.2009, 22:11
 Jedi Exile ЦитатаМеня интересуют лишь факты и их анализ, пото... 4.1.2009, 22:48
Jedi Exile ЦитатаМеня интересуют лишь факты и их анализ, пото... 4.1.2009, 22:48
 Брат Маркус Gelu
И кто мне говорит про оскорбления? :-) Ну, в... 4.1.2009, 23:19
Брат Маркус Gelu
И кто мне говорит про оскорбления? :-) Ну, в... 4.1.2009, 23:19

 Брат Маркус Да, господин Гелу, коль уж тягаете морковку из ого... 5.1.2009, 0:51
Брат Маркус Да, господин Гелу, коль уж тягаете морковку из ого... 5.1.2009, 0:51
 Starhunter Маркус, 2 миллиона с 18 по 53 год грубо говоря, пу... 7.1.2009, 17:51
Starhunter Маркус, 2 миллиона с 18 по 53 год грубо говоря, пу... 7.1.2009, 17:51

 Брат Маркус Цитата(Starhunter @ 7.1.2009, 17:51) Марк... 7.1.2009, 21:29
Брат Маркус Цитата(Starhunter @ 7.1.2009, 17:51) Марк... 7.1.2009, 21:29
 Starhunter Маркус, лично я считаю, что следет отделять мух от... 7.1.2009, 23:51
Starhunter Маркус, лично я считаю, что следет отделять мух от... 7.1.2009, 23:51

 Брат Маркус Цитата(Starhunter @ 7.1.2009, 23:51) Марк... 8.1.2009, 0:31
Брат Маркус Цитата(Starhunter @ 7.1.2009, 23:51) Марк... 8.1.2009, 0:31
 Shinoda Цитата60607 человек в год грубо говоря.
Много или ... 8.1.2009, 1:01
Shinoda Цитата60607 человек в год грубо говоря.
Много или ... 8.1.2009, 1:01
 Gelu Jedi Exile
ЦитатаСухие факты не отражают всей пол... 8.1.2009, 1:58
Gelu Jedi Exile
ЦитатаСухие факты не отражают всей пол... 8.1.2009, 1:58
 Starhunter Довольно быстро рассмотрели 2.6миллиона. Стахановс... 8.1.2009, 2:06
Starhunter Довольно быстро рассмотрели 2.6миллиона. Стахановс... 8.1.2009, 2:06
 Брат Маркус Гелу
ЦитатаФантазия обывателя их тем более не отр... 8.1.2009, 11:43
Брат Маркус Гелу
ЦитатаФантазия обывателя их тем более не отр... 8.1.2009, 11:43
 Starhunter Брат Маркус
ЦитатаДа, верно, это я затупил... :)))... 8.1.2009, 12:44
Starhunter Брат Маркус
ЦитатаДа, верно, это я затупил... :)))... 8.1.2009, 12:44
 Winn Давайте вы Сталина будете обсуждать... Уже не инте... 8.1.2009, 15:28
Winn Давайте вы Сталина будете обсуждать... Уже не инте... 8.1.2009, 15:28

 Брат Маркус Цитата(Winn @ 8.1.2009, 15:28) Давайте вы... 8.1.2009, 22:30
Брат Маркус Цитата(Winn @ 8.1.2009, 15:28) Давайте вы... 8.1.2009, 22:30
 Starhunter Брат Маркус, вообще-то Гелу имеет такое же отношен... 8.1.2009, 22:54
Starhunter Брат Маркус, вообще-то Гелу имеет такое же отношен... 8.1.2009, 22:54
 Фан Асоки ИМХО, Сталин нифига не палач(по крайней мере не та... 8.1.2009, 22:57
Фан Асоки ИМХО, Сталин нифига не палач(по крайней мере не та... 8.1.2009, 22:57
 Starhunter Фан Асоки, про Берию ты загнул. Ежов, вот кого име... 8.1.2009, 23:17
Starhunter Фан Асоки, про Берию ты загнул. Ежов, вот кого име... 8.1.2009, 23:17
 Брат Маркус Starhunter
Цитатавообще-то Гелу имеет такое же отн... 8.1.2009, 23:19
Брат Маркус Starhunter
Цитатавообще-то Гелу имеет такое же отн... 8.1.2009, 23:19
 Фан Асоки Святой отец я не боюсь ибо аллах со мной и он не ... 8.1.2009, 23:25
Фан Асоки Святой отец я не боюсь ибо аллах со мной и он не ... 8.1.2009, 23:25

 Брат Маркус Цитата(Фан Асоки @ 8.1.2009, 23:25) Свято... 8.1.2009, 23:35
Брат Маркус Цитата(Фан Асоки @ 8.1.2009, 23:25) Свято... 8.1.2009, 23:35

 Nemo Цитата(Фан Асоки @ 9.1.2009, 0:25) Вообще... 24.6.2010, 13:34
Nemo Цитата(Фан Асоки @ 9.1.2009, 0:25) Вообще... 24.6.2010, 13:34
 Фан Асоки Пoиcтинe, тeм, кoтopыe были тиpaнaми, нeкaя дoля, ... 8.1.2009, 23:45
Фан Асоки Пoиcтинe, тeм, кoтopыe были тиpaнaми, нeкaя дoля, ... 8.1.2009, 23:45
 Starhunter Маркус, про Берию не скажу, насколько он был крова... 9.1.2009, 1:29
Starhunter Маркус, про Берию не скажу, насколько он был крова... 9.1.2009, 1:29
 Фан Асоки Вот и появилась фраза: Быть в "Ежовых" р... 11.1.2009, 1:39
Фан Асоки Вот и появилась фраза: Быть в "Ежовых" р... 11.1.2009, 1:39
 Shatra Цитататочных данных о количестве жертв репрессий н... 15.1.2009, 13:51
Shatra Цитататочных данных о количестве жертв репрессий н... 15.1.2009, 13:51
 Starhunter ShatraЦитатав самом факте массовых репрессий никто... 17.1.2009, 21:18
Starhunter ShatraЦитатав самом факте массовых репрессий никто... 17.1.2009, 21:18
 Охотник я как коммунист не могу относиться к сталину норма... 24.6.2010, 15:57
Охотник я как коммунист не могу относиться к сталину норма... 24.6.2010, 15:57
 Хейт Цитатая как коммунист не могу относиться к сталину... 24.6.2010, 16:51
Хейт Цитатая как коммунист не могу относиться к сталину... 24.6.2010, 16:51
 Алекс Маклауд Цитатая как коммунист не могу относиться к сталину... 24.6.2010, 17:13
Алекс Маклауд Цитатая как коммунист не могу относиться к сталину... 24.6.2010, 17:13
 Дарт Зеддикус Сталин великий политический деятель России, подняв... 24.6.2010, 17:43
Дарт Зеддикус Сталин великий политический деятель России, подняв... 24.6.2010, 17:43
 Охотник ЦитатаСтранно, я думал, коммунисты на Сталина моли... 24.6.2010, 17:52
Охотник ЦитатаСтранно, я думал, коммунисты на Сталина моли... 24.6.2010, 17:52
 Алекс Маклауд Ну вот вам, господа, и доказательства ущербности к... 24.6.2010, 18:10
Алекс Маклауд Ну вот вам, господа, и доказательства ущербности к... 24.6.2010, 18:10
 Охотник ЦитатаНу вот вам, господа, и доказательства ущербн... 24.6.2010, 18:15
Охотник ЦитатаНу вот вам, господа, и доказательства ущербн... 24.6.2010, 18:15
 Дарт Зеддикус 2 Охотник
А кто тебе сказал что я штирниенист? Мн... 24.6.2010, 18:20
Дарт Зеддикус 2 Охотник
А кто тебе сказал что я штирниенист? Мн... 24.6.2010, 18:20
 Демон Цитататорцкизме или бухаризме
Наркоман и алкоголик... 24.6.2010, 18:42
Демон Цитататорцкизме или бухаризме
Наркоман и алкоголик... 24.6.2010, 18:42
 Хейт ЦитатаНу вот вам, господа, и доказательства ущербн... 24.6.2010, 18:45
Хейт ЦитатаНу вот вам, господа, и доказательства ущербн... 24.6.2010, 18:45
 Охотник Демон
Ну про Маркса ты конечно не обоснуешь, да и ... 24.6.2010, 19:15
Охотник Демон
Ну про Маркса ты конечно не обоснуешь, да и ... 24.6.2010, 19:15
 Хейт Цитатада и народ ничем особым не отличается. Оскор... 24.6.2010, 19:20
Хейт Цитатада и народ ничем особым не отличается. Оскор... 24.6.2010, 19:20
 Дарт Зеддикус хотелось бы заметить, что про Сталина мы маловато ... 24.6.2010, 19:24
Дарт Зеддикус хотелось бы заметить, что про Сталина мы маловато ... 24.6.2010, 19:24
 Охотник Цитатахотелось бы заметить, что про Сталина мы мал... 24.6.2010, 19:27
Охотник Цитатахотелось бы заметить, что про Сталина мы мал... 24.6.2010, 19:27

 Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:27) Ещё мо... 24.6.2010, 19:31
Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:27) Ещё мо... 24.6.2010, 19:31
 Охотник ЦитатаМмм народ ничем не отличается, а менталитет,... 24.6.2010, 19:31
Охотник ЦитатаМмм народ ничем не отличается, а менталитет,... 24.6.2010, 19:31

 Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:31) Так не... 24.6.2010, 19:41
Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:31) Так не... 24.6.2010, 19:41
 Alex Меня смущают текущие результаты. Без Сталина СССР ... 24.6.2010, 19:35
Alex Меня смущают текущие результаты. Без Сталина СССР ... 24.6.2010, 19:35
 Охотник ЦитатаМеня смущают текущие результаты. Без Сталина... 24.6.2010, 19:37
Охотник ЦитатаМеня смущают текущие результаты. Без Сталина... 24.6.2010, 19:37
 Охотник ЦитатаПричины были, просто про них нам умалчивают,... 24.6.2010, 19:42
Охотник ЦитатаПричины были, просто про них нам умалчивают,... 24.6.2010, 19:42

 Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:42) А госу... 24.6.2010, 19:44
Дарт Зеддикус Цитата(Охотник @ 24.6.2010, 17:42) А госу... 24.6.2010, 19:44
 Хейт Слушай а вот что ты так к нему ненавистно относишь... 24.6.2010, 19:43
Хейт Слушай а вот что ты так к нему ненавистно относишь... 24.6.2010, 19:43
 Охотник ЦитатаСлушай а вот что ты так к нему ненавистно от... 24.6.2010, 19:48
Охотник ЦитатаСлушай а вот что ты так к нему ненавистно от... 24.6.2010, 19:48
 Garon Конечно дел он натворил, но как показала история э... 24.6.2010, 23:10
Garon Конечно дел он натворил, но как показала история э... 24.6.2010, 23:10
 Nemo Я в прошлом году выступал на конференции с докладо... 25.6.2010, 10:09
Nemo Я в прошлом году выступал на конференции с докладо... 25.6.2010, 10:09
 Хейт Nemo
+1 Согласен с тобой 25.6.2010, 10:23
Хейт Nemo
+1 Согласен с тобой 25.6.2010, 10:23  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2025, 20:36 |